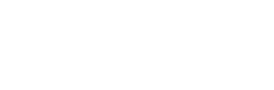Если вы думаете, что дети ничего не понимают, вы ошибаетесь. Месяц назад в Бресте показывали спектакль «Последние свидетели. Дети во Вторую мировую войну» по книге Светланы Алексиевич. От того, что мы увидели и услышали, стынет кровь.
«Последние свидетели» — беларуско-немецкий проект. Немецкий режиссер Йохен Лангнер поставил спектакль (в том числе для радио) на основе отрывков из книги Светланы Алексиевич.
Мы записали несколько историй — это рассказы тех, кто был ребенком, когда их настигла война. Кому-то пришлось стрелять в немца в 10 лет, а кому-то — ждать расстрела, наблюдать за убийством отца и брата и, улыбаясь по приказу военных, копать им могилу.
«Что лучше: вспоминать или забыть?»
1
После войны меня долго мучил сон о первом убитом немце. Он не дает мне уснуть. Один и тот же сон, который преследовал меня десятки лет.
Он был ранен, я хотел забрать у него автомат — мне сказали забрать у него автомат. Мне было 10 лет, партизаны уже брали меня на задания.
Подбегаю к нему и вижу, как перед моими глазами пляшет пистолет — немец вцепился в него двумя руками и водит перед моим лицом. Но он не успевает первым выстрелить — успеваю я.
Я не испугался, что его убил. Вокруг было много убитых, мы жили среди убитых, даже привыкли. Один только раз мне стало страшно.

Зашли в деревню, которую только сожгли — утром сожгли, а вечером мы пришли. Я увидел обгоревшую женщину — она лежала вся черная, а руки белые. Живые женские руки. Я хотел закричать, еле сдержался.
Нет, ребенком я не был. Не помню себя ребенком. Хотя убитых не боялся, а идти ночью или вечером через кладбище боялся. Мертвые, которые на земле, не пугали, а которые в земле — пугали. Детский страх, он остался. Хотя, я думаю, дети ничего не боятся.
2
Мама раньше всегда возвращалась домой. А тут мы с братом одни сидим несколько дней в квартире, никуда не выходим, вдруг мама появится. Стучат чужие люди, одевают и ведут нас куда-то, я плачу: «Мама, где моя мама?» — «Не плачь, мама нас найдет!» — утешает меня братишка, он на 3 года старше меня.
Мы оказываемся в каком-то длинном то ли доме, то ли сарае — на нарах. Все время хочется есть. Я сосу пуговицы на рубашке — они похожи на леденцы, которые отец привозил из командировок. Я жду маму…

Какой-то мужчина запихивает меня с братом в угол нар. Накрывает одеялом, забрасывает тряпками. Я плачу. Он гладит меня по голове — я успокаиваюсь. Так повторяется каждый день.
Однажды мне надоедает сидеть под одеялом. Я начинаю сначала тихо, а потом громко плакать. Кто-то сбрасывает с нас тряпки, сбрасывает одеяло, я открываю глаза: возле нас стоит женщина в белом халате. Мама?
Я ползу к ней, она тоже. Гладит меня, сначала по голове, потом по руке, затем достает что-то из металлической коробочки. Но я не обращаю на это никакого внимания — я вижу только белый халат и белую шапочку. Вдруг острая боль в руке — у меня под кожей иголка.
Не успеваю закричать, как теряю сознание. Дальше я ничего не помню: кто и как спасал нас в немецком концлагере. Там у детей кровь брали для немецких солдат, дети все умирали. Что-то случилось с моей памятью — не помню лиц, не помню слов.
3
Мирная жизнь исчезла мгновенно. С первыми выстрелами во мне еще жил ребенок, но уже рядом с кем-то другим.
Я увидела убитую молодую женщину — ребенок сосал у нее грудь. Видимо, ее минуту назад убило, ребенок даже не плакал. «Не потерять бы только мне маму», — думаю я. Мама все время держит меня за руку и гладит по голове: «Все будет хорошо, все будет хорошо».

Я видела, в канаве возле дороги лежат люди. Я спросила у мамы:
— Что эти люди там делают?
— Они спят.
— А почему они спят в канаве?
— Потому что война.
— Значит, и мы будем спать в канаве?
4
На улице они не стреляли, заходили в дома. Помню: мы все стоим возле окна. Вот к Аниське пошли расстреливать. Закончили. До тетки Анфисы идут. Мы стоим и ждем, когда придут и нас расстреляют. Никто не плачет, не кричит.
С нами была соседка со своими мальчиками, она говорит: «Пойдемте на улицу, на улице не расстреливают». В одном доме никого не нашли — словили и повесили их кота. Он висел на веревочке, как ребенок.
Как они ушли, я начала смеяться. 10 минут, 20, я уже по полу катаюсь от смеха. Мама кричит на меня — не помогает, она просит — тоже не помогает. Все уже думали, что я умом тронулась. У меня до сих пор так осталось: когда страшно — начинаю громко смеяться.

5
Я боюсь мужчин — у меня это с войны. Нашу семью взяли под автоматы и повели в лес. «Нет, — крутит головой немец. — Не тут». Полицаи говорят: «Роскошно вас, партизанских бандитов, в таком красивом месте положить, положим вас в болоте».
Выбрали самое низкое место, там вода всегда стояла. Папе и брату дали в руку лопату копать яму, а нас с мамой поставили рядом — смотреть. И мы смотрели.

Брат копнул последний раз: «Эх, Верка». Ему 16 лет было — только-только.
Мы с мамой смотрели, как их расстреливали. Отвернуться и закрыть глаза нельзя было — полицаи следили. Брат, он не упал в яму, а перевернулся — ступил так вперед и сел возле ямы. Они спихнули его в яму своими ботинками. И страшно было уже не то, что их застрелили, а то, что положили лицом в эту липкую грязь, в воду.
Плакать нам не дали, погнали в деревню. Два дня плакали мы с мамой — тихо плакали, дома. На третий день приходит этот же самый немец и полицай к нам: «Собирайтесь хоронить своих бандитов».

Мы пришли на это место, а они там плавают. Там был колодец, а не могила. Мы взяли свои лопаты, прикапываем, плачем. А они говорят: «Кто будет плакать, того будем расстреливать. Улыбайтесь». И заставили нас улыбаться.
Я голову опускаю, они подходят и смотрят — я там улыбаюсь или плачу. Вот и стоят они, молодые все мужчины, красивые, смеются. А я в этот момент понимаю, что уже не мертвых — живых испугалась. С того времени я боюсь мужчин. Замуж я не вышла, любви не узнала. Страшно — что если вдруг я рожу мальчика?
6
Помню, как согнали расстреливать деревню. Теплый день, трава теплая. Женщины в белых платках, дети босиком. Кто стоял, кто сидел. Никто не плакал, не говорил. Даже тогда меня это поразило.
Я читал, что люди обычно плачут, кричат, предчувствуя смерть. Ни одной слезинки не помню. Теперь, когда я об этом вспоминаю, начинаю думать: может, я оглох в те минуты? Почему не было слез?

Дети сбились отдельной стайкой, хотя никто нас от взрослых не отделял. Почему-то матери не держали нас возле себя. Почему — до сих пор не знаю. Обычно мы, мальчишки с девчонками, мало дружбу водили. Принято было: девчонка — значит, надо отлупить, за косички потаскать. А тут все прижались друг к другу. Даже собаки дворовые не лаяли.
В нескольких шагах от нас поставили пулемет. Возле него сели 2 эсэсовских солдата и о чем-то начали спокойно разговаривать. Шутили, даже смеялись — именно такие детали я запомнил.
Подошел офицер молодой. Переводчик перевел: господин офицер приказывает назвать имена тех, кто держит связь с партизанами. Будете молчать — расстреляем всех.
Люди как стояли или сидели, так и продолжали стоять и сидеть. «Еще три минуты — и вас расстреляют», — сказал переводчик и выбросил вверх три пальца.

Теперь я все время смотрел на его руку: «Две минуты — и вас расстреляют». Сжались теснее друг к другу. Кто-то что-то кому-то говорил, но не словами — движением руки, глазами. Я, например, ясно себе представлял, что нас расстреляют и нас больше не будет.
«Последняя минута — и вам капут», — я видел, как солдат снял затвор, зарядил ленту и взял пулемет в руки. До кого было 2 метра, до кого — 10. Из тех, кто стоял впереди, отсчитали 14 человек. Дали лопаты и приказали копать яму.
Нас согнали поближе — смотреть, как они копают. Они копали быстро-быстро. Я помню, яма была большая, глубокая, на полный человеческий рост. Такие ямы копают под фундамент.
Расстреливали по трое: поставят у края ямы — и в упор. Остальные смотрят. Не помню, чтобы родители с детьми прощались. Одна мать подняла подол платья и закрыла дочке глаза.
Расстреляли 14 человек и стали закапывать. Мы опять стояли смотрели, как забрасывают землей, как утаптывают сапогами. Сверху еще лопатками похлопали, чтобы было красиво, аккуратно. Один пожилой немец вытирал платком пот со лба, как будто он в поле работал. К нему подбежала маленькая собачка — никто не мог понять, чья она, откуда. Он ее погладил.
Через 20 дней разрешили убитых раскопать, взять в семьи и похоронить. Вот тогда закричали бабы. Заголосила вся деревня, запричитала. Я много раз натягивал холст — хотел это нарисовать. А получалось другое — деревья, трава.

Фотографии — для иллюстрации